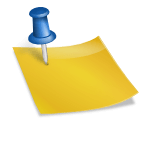Благодаря моей жизни в квартире двух пожилых людей, я сначала открыла для себя, а потом очень полюбила старые вещи, из-за их надёжности, из-за эмоций ими вызываемых. Ведь нет ничего стабильнее и долговечнее, чем добротно сделанные вещи. От них веет незыблемостью основ и уверенностью в завтрашнем дне.
На Станции родители поначалу пользовались казённой, то есть — никакой мебелью. Она была скучная и тощая. Потом потихоньку стали покупать свою. Но и эта тоже не радовала. Всё было подогнано под квартиры шестидесятых – мелкое, неустойчивое, с минимумом деталей.
Диван-кровать с выгнутыми коромыслами ручками, деревянная верхняя часть которых начала отваливаться уже в первый день покупки, всё время приходилось прилаживать коромысла на место, с трудом попадая штырьками в цилиндры отверстий и от раздражения колотя ладонью сильнее чем нужно, в надежде что больше не выскочит — и не диван, и не кровать, а так — ни уму и ни сердцу. Посидеть на нём ещё можно, а вот поспать — вечные проблемы скатывания в углублённую середину ложа, ломящие после сна бока из-за ночной борьбы с этим скатыванием. Сборка-разборка тоже очень быстро становилась морокой. То не открывался, выезжая целиком со своего места, то не закрывался бессовестно задрав углом обе половинки. Как-будто специально издевался!
Журнальный столик треугольным овалом на трёх конических трясущихся ножках, не дай бог задеть! Надо обходить осторожно. К нему — два малюсеньких креслица-шестидесятника. Сядешь и коленки к ушам, а сам будто на детской скамеечке расположился. Узкая полка-стеллаж для книг и разной пластиковой «красоты».
Радиола «ВЭФ-Радио» (всеволновая, ламповая, 1-го класса, это что-то!) в углу, на таких же как у столика, но четырёх ножках — радость наша с подругой Натахой. Мы часами сидели, а чаще лежали на животах, подперев кулаками головы и задрав согнутые в коленях ноги, рядом с ней на полу, с упоением слушая передачи «Доремифасоль», «С добрым утром», «Пионерскую зорьку», концерты всякие, ставили любимые пластинки… Не-е-т, это была хорошая штука, хоть и довольно хлипкая из-за ножек.
Рядом с радиолой — торшер, тогда их покупали все! Обязательно торшер, без него никак, неприлично! Наш — металлический, букетом из трёх веток со стеклянными зелёными плафонами в виде удлинённых ландышей с косо срезанными чашечками. Торшер был одновременно похож и на худосочный модерн, и на сорвавшийся в вычурность хай-тек. И сноса ему не было, да быстро мода прошла.
Мама безжалостно отправила красавца-растопыру на чердак, где он долго стоял, грустно приветствуя нас с Натахой каждый раз, когда мы забирались туда поживиться вяленой соседской ставридкой, поглазеть на ёлочные серебристые гирлянды, висевшие под балками крыши, полистать старые пыльные журналы «Советский экран» и просто побыть наедине, вне людских глаз. Совесть за съеденную рыбу нас не мучила — мы знали, что меньше бочки у запасливых Соколовых засолено не бывает.
Там же у торшера, в корыте, в котором раньше купали моего маленького брата Сеню, сидел большой плюшевый медведь моей подружки. Такой чудесный был этот Потапыч, что до сих пор стоит перед глазами. Натахина мать, тётка Лидуха, в очередном хозяйственном приступе велела Наташке выкинуть медведя:
— Куда хочешь! Я ничего не знаю, большая уже!
Подружка шла по Станции, тащила этого плюша и собиралась реветь.
Лидуха дама серьёзная, это не моя мама, если она сказала, то возврата нет. Втихаря назад не принесёшь, попадёт. Надо было что-то решать. Жалко стало обеих — и подружку и игрушку.
Выцветший до бежевого медведь стал частью не только Натахиного детства, но и моего. Мы поили его водой с ложечки, и он принимал её, впитывал опилочным нутром через плюш, чем поражал меня. Мы одевали его, пеленали, как младенца, возили в старой Наташиной розовой с вишенками фанерной коляске. Поэтому я считала себя вправе решить его судьбу и пристроила у нас в двухэтажке на чердаке, одев в одежду маленького брата. Наташка так рада была, что не надо выкидывать «куда хочешь». И вот он здесь, в легальном нашем с ней месте, и не лазит сюда никто кроме нас и Соколовых.
Иногда мне так хочется залезть на тот чердак! Вдруг там до сих пор стоит торшер, метис модерна с хай-теком, валяется пыльное Серёжино корыто, а в нём Натахин красавец-мишка в трогательных детских одёжках. А вокруг навалом, россыпью — «Советский экран», журнал, которым мы с подружкой зачитывались. И, наверняка, там есть другие забытые мною старые вещи, узнавание которых счастливой болью резанёт сердце и заставит задрожать руки…
Ещё в нашей малюсенькой «большой» комнате стоял обеденный стол и стулья. А больше ничего бы не поместилось.
В маленькой, сначала моей, а потом нашей с братом комнатке, стояли две стандартные узкие кровати, письменный стол и фанерный, разваливающийся на плоские детали желтый хлипкий скрипучий шифонеришко.
Зато мы были обладателями совершенно прекрасных видов.
В большую комнату лезло море! Оно заполняло все окна. Шторма ревели прямо в уши!
Море по бокам подхватывали два мыса, образующих нашу бухту.
Был виден деревянный причал и маленькие суда возле него. А ещё — фонтан, каштаново-кипарисовая аллея, ленты кустов иранской розы, пёстро и душисто цветущие летом и собирающие бабочек, пчёл, ос и шмелей со всей округи. Белоснежный двухэтажный красавец лабораторный корпус, своими балконами, верандами, террасами, тортовым крыльцом с широкими полукруглыми ступенями, двустворчатыми высокими входными дверями, балюстрадами и балясинами, больше похожий на виллу у моря, чем на рабочее научное помещение.
А в окно моей комнаты заглядывала гора Дооб, её длинный пологий склон, заросший лесом. Были слышнв пение птиц, ветер в деревьях, таинственные уханья и свисты, шакальи разборки и жалобы. Летом разнообразно зелёный, осенью склон украшался ало-оранжево-желто-красно-сиреневым огненным сиянием скумпии.
Мне очень нравились виды из окон и совершенно не нравилась мебель, окружавшая меня. Наверное сказывалось ещё то, что девочка я была неосторожная, быстрая, порывистая, вечно несущаяся куда-нибудь. Вся эта хлипкость падала, тряслась, ломалась от моих прыжков. Кому ж такое понравится?!
А у дедушки с бабушкой стояла массивная, с резьбой, со старым лаком, надёжная тяжёлая мебель. Не антиквариат, просто удобная для жизни.
О «трёх китах» большой комнаты моих стариков, я уже писала. Буфет, круглый стол и диван. Но были ещё кое-какие вещи помельче.
В углу возле окна, высокое трёхстворчатое зеркало с консольным столиком, застеленным маленькой кружевной скатёркой.
На столешнице стояли прозрачные, медового цвета, крутящиеся часы. Весь механизм был виден в действии. В детстве я, как завороженная, смотрела на кропотливую работу железочек и шестерёнок, оторваться не могла. Заводились часики вращением вокруг своей оси, и это тоже было в диковинку. Крепился круглый янтарный прозрачный корпус между двух невысоких колонок, почти как акробат на трапеции.
Рядом с часами стоял флакон старых духов. Бабушка ими не пользовалась, но и не выбрасывала из-за красоты. Стекло склянки было из голубого в синее, а если смотреть на свет, то внутри обнаруживался полупрозрачный цветок. Сейчас я понимаю, что это была шелковая орхидея. А в детстве цветик сражал меня своею тайной подводной красотой. Очень хотелось что бы, наконец, закончились эти нескончаемые духи, а мне бы достался голубой флакон с белым чудом внутри.
Я не знаю, пользовалась ли бабушка духами в молодости, и какими. Но при мне она «душилась» только «Красной Москвой». И их запах стойко связан у меня с моей прекрасной леди. Лёгкий, как бы отдалённый аромат несли на себе её вещи, чуть-чуть витало в воздухе при входе с улицы в квартиру, слегка пахли её платья и волосы. Очень, очень в меру. Поэтому запах не раздражал, а становился принадлежностью бабушки, чертой её характера, маленьким душистым штрихом.
На линии от окна — зеркало и диван, а у самой двери из комнаты, ведущей в широкий длинный коридор — шкафчик с застеклённым по типу «горки» верхом и светло-лаковым низом с дверцами. Шкафчик этот на семейном языке назывался «шкаф для ваз». В нём и на нём стояли хрустально-резные вазы синего, красного и прозрачного стекла.
Дедушка с бабушкой были не последними людьми в школе и городе, вот им и дарили на всякие торжества и юбилеи хрусталь — «От парткома», «От месткома», «От педагогического коллектива», от соратников, властей и родственников. Вазы очень помогали нам в дни рождения, но собрать в себя все подаренные цветы им не удавалось. Букетов всегда оказывалось больше.
По противоположной стене возвышался буфет. Это отдельная поэма. Весь он был набит до отказа хрусталём и фарфором. Хрусталь, стоящий на верхних полках за прозрачными дверцами, был старым, очень тяжёлым, резаным вручную. Большущая ваза для фруктов на высокой гранённой ножке, с плоским блюдом розетки, служила центром хрустальной композиции. Брать её возможно было только двумя руками, одной можно и не удержать. От фруктовницы вглубь и вширь разбегались посуды поменьше. Салатники-ладьи, конфетницы-коробочки, хрустальные миски и блюда. По краям сверкающего стеклянного рая стояли два пузатых хрустальных кувшина, один совершенно прозрачный, гладкий, второй — весь покрытый как бы изморозью, по которой парили вырезанные снежинки. Использовались они для компотов, морсов и соков. По форме кувшины были классическими, с ручкой, с мыском носика, с сытым толстым пузом.
Верхняя полка второго этажа буфета была отдана чайной и винной посуде. У стенки стояли двенадцать конаковских салатового цвета чашек, с рельефными выпуклостями деталей, с не тонкими талиями посередине, делавшими их похожими на затянутых в корсет купчих на «ситцевых балах». Передний ряд полки занимали несколько графинов и штофов, тоже резных и разноцветных — кобальтового, марганцевого и рубинового стекла. Не было только уранового. Синие с прозрачной прорезкой, прозрачные с золотыми орнаментами, вишнёвые, коричнево-фиолетовые и просто резные хрустальные.
Строями стояли фужеры, рюмки, стопки и всякая другая мелочь всех хрустально-стеклянных цветов. Больше всего мне нравились шесть маленьких пузатеньких «ванек-встанек». Если на столе кто-то задевал их, они проливали содержимое, а сами самостоятельно вставали на своё донце. Очень забавные. Теперь «пузатики» живут у нас.
В выдвижных ящичках буфета хранились серебряные и мельхиоровые столовые наборы, кольца для салфеток, ложки для варений, сделанные большой глубокой каплей. Ложки для сахара совочком, с очень тонкой то ли чеканкой, то ли резьбой. Чайные ложечки, которые очень трудно держать в пальцах, так как витой стебелёк черенка всё время норовит прокрутиться. Парадное чайное ситечко солнышком. И много ещё красивых и милых мелочей, доставшихся старикам от матери Всеволода Николаевича.
Огромное чрево буфета было занято стопками тарелок и мешочками с бакалеей. Я очень уважала бабушкин буфет, всегда можно было открыть дверцу или ящичек, рассматривать сияющие хрустальные мелочи и трогать матово спокойно отсвечивающее серебро. Я получала большое удовольствие от их красоты. На Станции, в нашей молодой семье, конечно, таких староукладных вещей быть не могло. Все ведь только начинали свои семейные истории. А в Орске у бабушки была нормальная вместительная мебель и размеренная жизнь.
Следом за буфетом шла дверь в спальню. А после дверной ниши, в углу у окна, стояло наше главное сокровище.
Телевизор. Боже, какое счастье! Мы были его поклонниками и фанатами.
На Станции телевизоров ни у кого не было, и антенн тоже. Единственный экземпляр имелся в «красном уголке» в здании столовой. Там мне всегда становилось уныло и тревожно из-за полной неухоженности и разрухи места. Вход по ступенькам сразу со двора, грязный пол, стоящая как пьяная компания мебель. Голый, серый казённый стол, раздражавший меня своим неизящным аскетством. Разномастные скрипящие стулья. Глупые, неуютные здесь, крашенные в синее и зелёное табуретки. Ободранное до рогожи, из которой лез колючий конский волос, бывшее кожаное «министерское» кресло. Беспомощные, плохо пробеленные стены, попытавшиеся украсить себя небрежно прикреплёнными разномастными агитплакатами. Голая лампочка на длинном витом кривоватом проводе. Сам провод — весь в неаккуратных разновозрастных мазках побелки. Для ума — скука смертная. Для глаз — тоска полная.
А посреди этого — скрипящий, гудящий, дрожащий серыми полосами жуткий телевизор. И наши папы вокруг него, пытающиеся наладить звук и картинку, чтобы наконец посмотреть какой-то очень важный для них футбольный матч. У пап ничего не получается, а мы в тайне от них надеемся, что вдруг прорвётся какой-нибудь детский фильм вместо спорта. Говорили, что так бывает. Но ни футбола, ни сказки на экране так и не появляется. Мы, разочарованные, по одному сбегаем из серого красного уголка, оставляя наших отцов вслушиваться в события матча, плохо доносимые сквозь эфирные шумы. Вот и всё знакомство с телевизором. До Орска.
Бабушкин телеэкземпляр был маленьким, светло-серым, и у него имелось имя. Очень неожиданное для электронной продукции – «Снежок». Да, была такая фирма, видимо. Как же мы любили своего Снежка! Для него были закуплены кресла с высокими удобными спинками. В «мирное время» они стояли у окна с двух сторон от бочки с пальмой. Во время просмотра выдвигались в проход между столом и телевизором. Конечно бабушка подарила нашему любимцу самую красивую вышитую гладью салфетку. Считалось, что если не прикрывать экран, он может выцвести. Не знаю, так это или нет, но у всех владельцев чёрно-белые телевизоры в то время были укрыты — с макушки на лицо разного достоинства тряпочками. Убирались они лишь при просмотре передач.
Местное телевидение работало не круглосуточно, а центральное ещё не дошло до Орска. Мы смотрели все — от новостей до записанных телепостановок. Всему городу очень нравилась местная диктор Валечка Мауль. Она была симпатичная, держалась с шармом и достоинством, обладала приятным мягким голосом. Передавались даже городские легенды о том, что Валечку после вечерних эфиров обязательно провожали до дома специально приставленные люди, так как Орск — город неспокойный. И надо смотреть в оба, чтобы уберечь общую любимицу от приставаний нехороших личностей.
Бабушке с дедом очень нравились концерты в записи с их кумирами — Шульженко, Руслановой, Лемешевым, Козловским, Бернесом, Штоколовым, Отсом. Они смотрели не отрываясь, горячо обсуждая исполнителей, радуясь, что те ещё на ногах и при голосе. Время-то шло.
— Оля, Оля, где ты там? Бросай всё, иди сюда! Сейчас Шульженко будет петь!
Они даже сидеть в креслах не могли, когда выступали их любимцы.
— Оленька, Оля, ты посмотри, что делает. Она же старше тебя!
Клавдия Шульженко, кокетливо строя глазки и делая непередаваемые пасы руками, пропевала: «Что? Да. Что? Нет. … Ах, как крУжится голова, как голова кружИтся…, приво…
Источник: