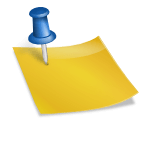Проза Тома Маккарти – главное мое литературное открытие 2010 года. Открытие это я сделал с опозданием – уже несколько лет о Маккарти говорят в Европе и Америке, как об одном из главных дебютантов нулевых годов. История успеха писателя нетипична для нашего времени: обычным английским издателям рукопись его первого романа не понравилась, и он, точно иконокласт бит-эпохи, опубликовал ее в Париже, в издательстве во всех отношениях необычном, воскрешающем контркультурные традиции середины прошлого века. Скоро роман “Remainder” выйдет в России, его выпускает издательство “Ад Маргинем”. В русском переводе книга получила название “Когда я был настоящим”. Перевела роман наш постоянный автор Анна Асланян. Она же встретилась с Томом Маккарти в Лондоне и взяла у него интервью для программы “Поверх барьеров”. Том Маккарти рассказал об истории своего дебюта, о втором романе “Люди в космосе” и о только что завершенной третьей книге – она называется “С” и посвящена замечательным вещам, начинающимся на третью букву латинского алфавита.
Чтобы дойти до нас, книге “Когда я был настоящим” пришлось проделать тот же путь, что полвека назад “Лолите”. Поначалу издательства конвейерного типа сочли вашу рукопись слишком рискованной — не в нравственном, а в коммерческом отношении. Роман увидел свет благодаря парижскому “Метроному”, наследнику знаменитой “Олимпии”, не побоявшейся в свое время первой напечатать “Лолиту” Набокова. Расскажите подробнее об истории выхода книги.
Я написал эту книгу в 2001-м — вернее, закончил в 2001-м, — и в течение следующих двух лет практически все крупные британские издательства ее по той или иной причине отклонили. Я стал все больше и больше времени уделять другим арт-проектам, не литературным. Благодаря связям, которые сложились у меня в кругах, связанных с искусством, я познакомился с женщиной по имени Клементина Делисс — сейчас она руководит Музеем этнографии во Франкфурте, она стала его куратором. Она тогда начинала в Париже сотрудничать с человеком по имени Тома Буту. Вместе они стали печатать романы разных современных авторов, взяв в качестве модели издательство “Олимпия-пресс”, которое в 60-е тоже печатало книги на английском в Париже. “Олимпия” издавала Уильяма Берроуза, Набокова, Александра Трокки — писателей, к которым мейнстримные издательства боялись прикоснуться. Итак, в 2005-м году “Метроном-пресс” затеяло такую акцию — реконструкцию культурных событий тех дней. Они начали печатать книги, которые даже по виду напоминали вышедшие в “Олимпии” — тот же дизайн обложки, тот же шрифт. Вот в таком контексте впервые и был выпущен мой роман “Когда я был настоящим”. Поначалу его распространяли только по художественным каналам — так, в магазине при галерее “Тейт” можно было купить экземпляр, а, скажем, в сети книжных “Уотерстоунс” — нет. А когда о книге начали писать и “Уотерстоунс” попросили прислать им партию, Делисс с Буту сказали: нет, не дадим. Они были настроены достаточно воинственно, защищали главенство художественного мира над литературным.
С тех пор “Метроном-пресс” занимались и другими проектами, но в их планы никогда не входило сделаться мейнстримным издательством. Они всегда считали себя неким кураторским арт-проектом. Например, следующий их проект после выпуска “Когда я был настоящим” был такой. В Музее современного искусства в Токио открыли кабинет, куда люди приносили книги, чтобы их превращали в бумажную массу и делали из нее туфли. Тоже своего рода настоящее искусство — из книг делаются туфли, носишь их и одновременно читаешь — там оставались куски напечатанного, которые можно было разглядеть. С тех пор они придумывали и другие вещи. Например, открыли в Париже нечто вроде галереи-салона; там они проводят разные дискуссии об искусстве и тому подобное. Одним словом, они, по сути, совсем отошли от того, что принято называть традиционным издательским делом. Сейчас Клементина, как я уже говорил, руководит Музеем этнографии во Франкфурте. А Тома Буту преподает в одной из парижских галерей.
“Я направлялся назад по коридору в большую комнату, но тут заметил комнатку в стороне от маршрута, которого до сих пор придерживался. Я все время обходил кухню по часовой стрелке, а большую комнату – против: дверь – диван – окно – дверь. Добавьте сюда короткий, узкий коридор, соединяющий две комнаты, — и получится маршрут в форме восьмерки. Эта дополнительная комната как будто взяла и выскочила рядом с ней, как та половина в договоре – довесок, сбоку припеку. Я просунул голову внутрь. Это оказалась ванная. Я вошел и запер за собой дверь. Тут оно и произошло – событие, которое, если не считать аварии, стало самым значительным во всей моей жизни.
Произошло оно так. Я стоял у раковины, смотрел на эту трещину в штукатурке, как вдруг у меня возникло ощущение d?j? vu.
Ощущение d?j? vu было очень сильным. Я уже бывал в помещении вроде этого, в месте прямо как это, уже смотрел на трещину — трещину, которая выпирала и извивалась точно так же, как эта, сбоку от зеркала. Там была такая же трещина, и ванна тоже была, и окошко над самыми кранами, прямо как в этой комнатке; разве что окно было чуть побольше, а краны другие, более старые. Окно выходило на крыши, там сидели коты. Красные крыши, черные коты. Это место находилось высоко, гораздо выше, чем я был сейчас – шестой, седьмой или даже восьмой этаж старого здания, в каких сдаются квартиры, большого дома. Народу в здании было битком: соседи и подо мной, и вокруг меня, и этажом выше. С нижнего этажа до меня долетал запах готовившейся на сковороде печенки; и звук тоже, шипение и скворчание.
Все это я вспомнил очень ясно. Этажом ниже готовилась печенка – запах, шипение и скворчание, — а дальше, еще двумя этажами ниже, была фортепьянная музыка. Не музыка в записи, игравшая на диске или по радио, — музыка настоящая, в живом исполнении, которую играл на фортепьяно живший там человек, музыкант. Я вспомнил, как она звучала, вспомнил ее ритм. Порой он останавливался, всякий раз, когда брал не ту ноту или терялся. Останавливался и начинал пассаж заново, проигрывая его медленно, а когда подбирался к месту, где ошибся, совсем замедлял темп. Потом несколько раз играл его правильно, снова повторял, снова разгонялся, и так — пока не получится сыграть в нужном темпе, не спотыкаясь. Все это мне ясно вспомнилось – кристально ясно, настолько ясно, словно в каком-то видении.
Все это я помнил, но не мог вспомнить, где именно было это место, эта квартира, эта ванная. И все-таки оно, это вспомненное здание, росло с каждой минутой, пока я стоял там, в ванной. Начавшись с трещины, оно все ширилось. Соседка, готовившая печенку этажом ниже, была пожилая женщина. Я почти каждый день встречал ее на лестнице. Мне вспомнилось, как мы встречались у двери в ее квартиру, когда она выносила мусор на площадку. Она мне что-нибудь говорила; я что-нибудь отвечал и проходил дальше. Она выносила мусор, чтобы его забрала консьержка. В здании, которое я вспоминал, была консьержка, прямо как в парижских многоквартирных домах. На лестнице были чугунные перила, затоптанный пол, узорно выложенный, мраморный или под мрамор. Я вспомнил, каково было по нему ходить: какой звук издавали мои ботинки на его поверхности, какими были на ощупь перила. Я вспомнил, какое ощущение возникало у меня в квартире, когда я по ней перемещался: из ванной с трещиной на стене — в кухню, в гостиную; как шелестели свисавшие с потолка растения в горшках, когда я мимо них проходил; как я частично поворачивался боком, минуя край кухонного стола, находившийся на уровне пояса — поворачивался боком туда и сразу же обратно, ловко, одним плавным движением, задевая рубашкой деревянную поверхность. Я вспомнил, какое от всего этого было ощущение.
Тогда-то я и понял в точности, что хочу сделать с деньгами. Я хочу воссоздать это место и войти туда, чтобы снова почувствовать себя настоящим. Хочу, обязан, добьюсь своего. Остальное неважно. Я стоял, уставившись на трещину. Все упиралось в это: в то, как она проходила по стене, в структуру штукатурки вокруг нее, в цветные пятна справа от нее. Именно это и послужило началом всему. Я должен был как-то запечатлеть это, ничего не упустив – ни единого разветвления или зазубрины. В дверь кто-то стучался.
Я огляделся. Рядом с ванной стояли две банки с краской; на крышке одной из них лежали рулетка и карандаш. Я взял карандаш, оторвал полоску бумаги, приставшую к стенке под окном, и начал срисовывать форму трещины”.
Пожалуй, в некотором смысле действие романа могло бы происходить в любом западном городе, где есть… ну, во-первых, кофейни, потом бедные районы, где начинают селиться люди более благополучные. С другой стороны, поскольку действие разворачивается все-таки в Лондоне, а не где-нибудь еще, топография города становится весьма важна. Важны те маршруты, которые прокладывает герой по южной части Лондона, выписывая эту фигуру, восьмерку. Это, по сути, то же, что делает Леопольд Блум, который ходит восьмеркой по улицам Дублина. Вот так. Когда я писал роман, я ходил повсюду с диктофоном и фотоаппаратом, пытаясь ухватить всевозможные вещи — например, разметку и прочие линии на улице, которые играют в книге ключевую роль. Еще — элементы граффити, даже то, как свет, падающий на вывеску конторы такси, заставляет отражение складываться в головоломку. Ну, и так далее, и тому подобное… Короче говоря, все это могло происходить в любом городе, но поскольку выбран был Лондон, Лондон сделался чрезвычайно важен.
С середины 19 века есть две точки зрения на литературу. Согласно первой, “литература” — это “искусство”. С другой – что угодно, только не “искусство”: социология, философия, бизнес, классовая борьба и прочие назойливые вещи. Собственно говоря, это и есть две крайние позиции: Оскара Уайльда и Льва Толстого. Более противоположных мнений быть просто не может, несмотря на то, что Толстого с Уайльдом объединяет главное – крайний радикализм воззрений и готовность, что называется, “отвечать за базар”. Оба и ответили: один в Редингской тюрьме, другой на станции Астапово.
Том Маккарти – один из лучших писателей нынешнего времени, наглядно и убедительно демонстрирующий, что “литература” есть “искусство”. И дело даже не в том, что “Remainder” – настоящее произведение литературного ремесла, литературного искусства, что это превосходно, мастерски написанная книга. “Обычная беллетристика” вырастает из предшествующей ей беллетристики, отсюда ее умственная худосочность и трусливая наглость провинциала. Роман Маккарти есть результат смешения литературной традиции с практиками передового искусства 20-го века.
Что касается традиции, то Том Маккарти – изменник родины. Зеленым лужайкам островной словесности он предпочитает стогны Парижа. По сути дела, “Remainder” – доведенный до предела эксперимент с памятью, Пруст, сжатый до размеров одного небольшого тома, параноидальная мадленка. Страсть Маккарти к наблюдениям за ежедневными ритуалами городской жизни явно свидетельствует о тщательном изучении прозы Жоржа Перека, а одержимость формальной стороной вопроса отсылает к французской литературно-математической группе УЛИПО.
Но главное – другое. Том Маккарти своим романом завершает историю европейского ситуационизма. “Remainder” можно прочесть как подробное описание ситуационистской затеи, как – перенося разговор в позднесоветский контекст – документацию акции “Коллективных действий” или “Медгерменевтики”. Между искусством и жизнью нет никакой пропасти, нет ни малейшего просвета, куда мог бы втиснуть свое перо унылый литкритик. Искусство равно жизни, равно литературе. Маккарти возвращает нас во времена высокого модернизма и классического авангарда, когда это было именно так.
Вы не раз говорили о людях, чьи произведения вдохновили вас на написание “Когда я был настоящим” — Джойсе, Фолкнере, Уорхоле, Балларде. Ориентировались ли вы еще и на французского писателя и поэта Раймона Русселя?
Да, я читал “Locus Solus”… Но, знаете, вообще-то “Locus Solus” я прочел уже после того, как закончил писать “Когда я был настоящим”. Кто-то из критиков мне тоже говорил: не было ли тут влияния “Locus Solus”? Нет, не было, но могло бы быть — и обязательно было бы, прочти я ее прежде. Это литература весьма похожего рода. В “Locus Solus” присутствует, можно сказать, некий механизм — едва ли не формула, которой все подчинено. Там на глазах читателя разворачивается это странное экспериментальное представление, которое в конце разъясняется. Все это напоминает своего рода оживление определенного исторического события — или, выражаясь по-другому, реконструкцию чего-то.
Да и вообще, повторение имеет собственную логику, и это — то, на чем в большой мере основывается западная литература в целом. Это есть и в “Гамлете” — Гамлет на глазах у всех реконструирует смерть отца; есть это и в “Дон Кихоте”, где герой постоянно разыгрывает заново сцены из своих любимых романов — неизбежно ошибаясь, он всегда совершает ошибки в важнейших моментах. Это же можно проследить во всем, вплоть до “Автокатастрофы” Балларда, где его главный герой реконструирует катастрофы знаменитых личностей; до Уорхола с его бесконечными повторениями чего угодно, будь то жестянки с супом или опять-таки автокатастрофы. Мне кажется, повторение вездесуще, оно… оно все время повторяется.
На вопрос, о чем книга Маккарти, можно ответить кратко: об имитации. О том, как искусство имитирует реальность, реальность имитирует искусство – и так до бесконечности, до полного взаиморастворения. Рассказчик, среднестатистический индивид, не читавший “В поисках утраченного времени” подобными категориями не мыслит. Он вовсе не художник, он лишь воспроизводит в мельчайших деталях определенные события из прошлого. В этом занятии – единственном, которое позволяет ему “почувствовать себя настоящим” — герою мешает не только упрямая, скованная законами физики материя, но и собственное сознание. “Мозг – штука гибкая и коварная. Готовая на любые авантюры”, — с самого начала признает он. Заигравшись в свои “реконструкции”, приятный молодой человек превращается в безумца, одержимого властью и идеями совершенства, которые необходимо нести в мир. Не ограниченный в средствах, финансовых и прочих, он берется за дело всерьез: сегодня реконструирует незначительный эпизод в автомастерской, завтра – налет на банк, а дальше… Прочитавшие, что дальше, удивляются, заметив “Remainder” в ларьках аэропортов, а то и предлагают усилить меры безопасности — на случай, если жизнь и тут вздумает имитировать искусство.
При чтении вашего романа в голову приходит еще одна ассоциация. Есть ли связь между ним и серией фильмов – точнее, художественных проектов — Мэтью Барни под названием «Кремастер»?
Пожалуй… Но опять-таки, я видел только один из этих фильмов — кажется, «Кремастер 3». Тот, где дело происходит в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Так вот, и этот фильм я посмотрел лишь после того, как написал свой роман. Но мы с ним во многом близки. Я имею в виду то, что он одержим материей, материальностью — это можно найти у многих художников, например, у Йозефа Бойса — да, в особенности у Бойса. Понимаете, эта жирная субстанция, которой так много и у Бойса, и у Барни — они оба ее часто используют, эту слизь, грязь, дерьмо, всяческую гадость. По-моему, это одержимость того рода, что часто встречается в литературе начала двадцатого века — у таких писателей, как Понж, Жорж Батай; они, можно сказать, отворачивались от абстракции, от духовных вещей и посвящали свое внимание материализму. Все это в большой степени присутствует в тех фильмах — и, конечно, в моей книге, где материя играет огромную роль. Подозреваю, Барни тоже читал Батая, увлекался его материализмом — а это то, о чем я много размышляю в своем романе “Remainder”.
“Настоящие поверхности, увиденные мною в тот же день, были потрясающими. Если схемы напоминали абстрактные картины, то сама дорога походила на работы старых мастеров, кого-то из этих голландцев, где слои масляной краски подернуты густой рябью. Асфальт на ней был старый, в изломах и трещинах. А линии разметки! Они были выцветшие, истонченные временем и светом до слабого эха инструкций, некогда так смело ими провозглашаемых. Дорога, подобно большинству дорог, имела поперечный уклон. Недавно прошел дождь, и, хотя центральная ее часть была сухой, поверху шли мокрые следы шин. По краям же она была все еще мокрой. Рядом со швами, где дорога примыкала к поребрику с мощеным тротуаром, смешанные по всем правилам вода и грязь образовывали мутные, рябоватые гребни. Местами они сбегались в лужи, по центру которых висели большие грязевые облака; окаймлявшие их канавки были тронуты ржавчиной, постепенно сходившей на нет – словно художник сполоснул в них свою кисть.
Повсюду были беспорядочно разбросаны жвачка, сигаретные окурки и бутылочные крышки; они тонули во внешней оболочке пространства, сливаясь с асфальтом, камнем, грязью, водой, мутью. Доведись вам вырезать отсюда десять квадратных сантиметров, как вырезают из поля на школьных практических занятиях по географии — десять сантиметров в длину на десять в ширину, и еще десять в глубину, — вы обнаружили бы столько всякого материала для анализа, столько слоев, вообще столько материи, что ваши исследования, разошедшись во всевозможных направлениях, продолжались бы до бесконечности, пока вы, наконец, не подняли бы в отчаянии руки и не объявили ждущему от вас отчета начальству: “Здесь слишком много всего, слишком много материала для обработки — просто слишком много”.
Первого крошечного тиража книги “Когда я был настоящим” оказалось достаточно, чтобы меньше чем за год вывести ваш роман в мейнстрим, сделать бестселлером по обе стороны Атлантики и заинтересовать кинематографистов — сейчас по нему снимают фильм. Вы жаловались, что сценарист решил раздуть любовную сюжетную линию — которой в романе, по сути, нет — до полнометражных голливудских масштабов. Вы ведь не случайно сделали вашего героя асексуальным?
Нет-нет, это уже выкинули из фильма — они сменили режиссера. И слава богу! Уволили и режиссера, и сценариста, теперь ничего этого не будет. Что до асексуальности, я специально использовал этот трюк. Ведь в некотором смысле вся книга — о сексе, там все — секс. Поэтому включить туда настоящий секс означало бы замкнуть эту линию накоротко. То же — и с литературой. Будь мой герой интеллектуалом, он бы, увидев ту трещину на стене, сразу бы решил: ага, это что-то вроде того, что описано у Пруста. И тогда незачем было бы писать книгу. Таким образом, литературу из повествования следовало полностью исключить, как и секс. Но, если помните, в конце книги пенетрация все-таки происходит — он, герой, тычет пальцем в раны… Это, разумеется, имеет самые что ни на есть сексуальные коннотации. Одним словом, да, я перенес либидо героя из тела наружу, во внешний мир — оно направлено не только на тела других людей, но и многое другое там, в этом мире, даже на экономические процессы, которые его подпитывают.
То же самое — со съемками, с камерами. Все это надо было убрать из повествования, иначе оно рухнуло бы, превратилось бы в какого-то Бодрийяра — в какие-то медитации по поводу моделирования образов. Понимаете, на эту тему ведь столько теоретизировали — сотни раз, снова и снова. Поэтому — именно поэтому герою не нужны никакие съемки, никакие камеры. В то же время, весь этот его интерес к вопросу о том, что настоящее, а что нет, идет от его увлеченности Робертом Де Ниро в “Жестоких улицах”. Он размышляет: когда Де Ниро идет по улице, он может просто быть самим собой, если же по улице иду я, то мне ничего не остается, как подражать ему — каким бы крутым я себя ни считал. То есть, его поведение целиком основано на кинематографической логике — целиком и полностью.
По-моему, он формулирует это вполне сознательно. Помните, он говорит: жизнь вокруг — ненастоящая, я хочу быть настоящим, хочу быть, как герой фильма, поэтому я создам свой собственный фильм и там поселюсь. Лишь потом все это становится более чувственным, инстинктивным стремлением, чем-то вроде… В общем, он, по сути, превращается в своего рода наркомана — у него возникает острая потребность, вскоре это уже у него в крови: испытать покой, когда все движется, как в замедленных кадрах. В этом смысле нечто похожее происходит в новой моей книге, “С”. Впрочем, там-то герой и в самом деле наркоман… Вообще интересно, как влияет на человеческое сознание травма. Я довольно много читал об этом, о посттравматических явлениях. В частности, изучал труды психологов, так называемых позитивистов. Они в основном сходятся во мнениях с Фрейдом — в том, что травма обычно связана со стремлением к повтору. Причина, по их словам, состоит в том, что в крови вырабатываются определенные химические вещества. Воспоминания о травме в действительности приносят наслаждение, и потому при каждом новом возбуждении этих ощущений в кровь выбрасывается новая порция эндогенных опиоидов. Одним словом, психологи приходят к тому же выводу, что и Фрейд — то есть, Фрейд делает такое заключение, рассуждая об Антигоне и прочем, но в основе в обоих случаях лежит одно и то же — повторение. Повторение и травма тесно связаны. И наслаждение — да, конечно, и наслаждение.
“Теперь покалывание действительно вышло из берегов – оно растекалось от основания моего позвоночника, растекалось по всему телу. Я снова был невесомым; момент снова расправил свои границы, сделался тихим, прозрачным водоемом, в своей умиротворенности поглощающим все остальное. Я уронил голову назад; мои руки начали подниматься от боков, ладони — выворачиваться наружу. Я ощущал, что меня подымает, что мое тело стало невыносимо легким и в то же время невыносимо плотным. Интенсивность возрастала до тех пор, пока не взорвались мои чувства – все, разом. Повсюду вокруг меня раздавался шум, хор: вопли, крики, стук, трезвонящие сигнализации, бегающие вокруг, натыкающиеся на предметы и друг на друга люди. Я опустился на колени рядом с номером четыре. Кровь из его груди набегала равномерной, широкой колонной, маршируя по равнине ковра, от чего золотые линии узора рябили, как флаги на ветерке.
[…] Я лег, распластавшись так, что моя голова оказалась у самой лужицы, и стал следить за отражениями. Предметы – обрубок двери, окошко, угол плаката – абстрагировались, отделились от окружавшего их пространства, освободились от расстояний и теперь все вместе плавали в этой лужице репродукций, как мой персонал в своем церковно-витражном раю.
[…] Я приблизил голову к телу четвертого и ткнул пальцем в рану у него в груди. Рана была выступающей, не ввалившейся; частички его плоти прорвались сквозь кожу и поднялись, как поднимающееся тесто. Плоть была и твердой, и мягкой — податливая на ощупь, она держала форму. Поднеся глаза к ней вплотную, я увидел, что она прошита крохотными отверстиями – естественными отверстиями, размером с булавочный укол, похожими на отверстия для дыхания. Между ними, там, где в него вошли дробинки, открывались трещины гораздо более крупные, беспорядочные. Кое-что внутри туннелей, образованных внутренностями трещин, я разглядел, но дальше они поворачивали и сужались, исчезая у него в глубине.
Помимо чтения книг по психологии, вы, когда писали “Remainder”, беседовали с людьми, перенесшими травму.
Да, я беседовал с двумя людьми — их я благодарю в послесловии, Джонни Ричем и Таркуином Эдвардсом. Оба пережили автокатастрофы. Они очень и очень помогли мне в работе над книгой — во многом, в самых разных вещах. Например, Таркуин — у него была мозговая травма, поэтому ему пришлось заново учиться двигаться. В результате, что бы он ни делал, у него было такое ощущение, словно он имитирует это действие, а не просто берет и выполняет его. Скажем, взять чашку кофе для него было равносильно тому, чтобы реконструировать этот жест, когда рука берет чашку кофе, а не просто взять чашку кофе. Это очень интересно. А Джонни Рич говорил о другом — опять-таки, это наводит на мысли о настоящем и ненастоящем — так вот, Джонни Рич говорил, что, когда его везли в скорой помощи после аварии, он думал — это я так и вставил в книгу целиком — он думал: черт возьми, я же вне всего этого, все происходит без моего участия. Наконец-то меня везут в скорой помощи, совсем как в кино, как в какой-нибудь сцене из фильма, а сам я в этом не участвую — я же внутри и ничего этого не вижу, не вижу, как скорая помощь едет по улице. Вместо того, чтобы смотреть это кино, я просто лежу на носилках, и все.
Причем они, эти двое, именно так все и сформулировали — сами, независимо; они не были знакомы друг с другом, а рассказы их обоих были очень похожи. Но странно вот что — я хочу сказать, все это в точности напоминает “Автокатастрофу» Балларда. Там авария открывает перед тобой в точности такую же картину: повторение, реконструкция… Герой книги — его зовут Баллард — попадает в катастрофы; он говорит, что его можно называть эмоциональной кассетой, которую можно проигрывать снова, на любой скорости. Это странно, очень странно. Как будто тебе все время рассказывают одну и ту же историю — будь то отдельный человек, литература, психоанализ, психология… Но книга, конечно, не об этом — она не о травмах, это не психологическое исследование. Повествование уводит в совершенно другом направлении.
Роман “Люди в космосе” Том Маккарти написал, вернувшись из Праги, где жил в начале девяностых. В то время город называли новым Парижем. Атмосфера свободы, расцвет неформальной субкультуры, долгожданные “секс, наркотики и рок-н-ролл” — все мастерски схвачено автором. Но это лишь одна проекция романа с его множеством уровней, планов и сюжетных линий. По ходу их развития постмодернисту-тусовщику заказывают подделать редкую икону, которую собираются нелегально переправить за границу. Контрабандисты готовы к разным подвохам, однако не подозревают, на какие шутки способно вдохновение художника. Договор выполнен, два неотличимых полотна доставлены по назначению, как вдруг выясняется, что оба — копии. Охота за оригиналом ведется по всем правилам жанра, что, впрочем, никак не делает книгу триллером в обычном понимании.
Смена рассказчиков в повествовании происходит часто, внезапно и без единой шероховатости. В партитуру остроумно вписаны отчеты сотрудника службы безопасности, подслушивающего разговоры персонажей. Особист остается на посту, даже потеряв связь с центром – “бархатная революция” оставила его без хозяев, — и продолжает посылать депеши в никуда.
Что до людей в космосе, в книге несколько раз упоминается застрявший на орбите советский космонавт. За время его полета “союз нерушимый” распался, и бывшим согражданам теперь не до него. Независимые государства кивают друг на друга, а он все накручивает витки. Так вот, заголовок – это не только о космонавте из анекдота. Речь идет обо всех персонажах: каждый движется по своей траектории, зависнув во времени и в пространстве. В подвешенном состоянии автор держит и читателя, не отпуская до самого конца, вызывая желание подольше не возвращаться на Землю.
Пожалуй, я оказался там в очень интересное время, когда только-только рухнул железный занавес. Чехословацкое правительство тогда возглавлял поэт, который назначил на все посты своих друзей. Последние представляли собой забавную смесь художников, музыкантов, наркодилеров, математиков-диссидентов… Вот эти ребята управляли страной — то было замечательное время, правда, долго оно не продлилось. Но поначалу действительно было это ощущение эйфории, того, что все возможно. Разумеется, возможно ничего не было — очень скоро там появился “Старбакс”. Но было время, где-то с год, когда казалось, что возможно все. Так что, можно сказать, это стало фоном к той моей книге.
Вообще-то я поехал в Прагу просто потому, что жизнь там была дешевая. Понимаете, я только что закончил университет, мне надо было найти место подешевле, чтобы жить там и писать. По той же причине в 20-е годы все ехали в Париж, по той же причине сейчас все едут в Берлин. В наши дни ведь все — молодые художники, писатели — все в Берлине; причина все та же. Я жил с одним чешским художником, — он, по сути, выведен в книге под именем Ивана Маначека — с другом Гавела. Вернее, бывшим другом Гавела. Не знаю, что между ними произошло — этот парень был совершенно долбанутый; в книге мне пришлось умерить его крайности, иначе вышло бы неправдоподобно. В целом общество вокруг меня было вполне интернациональным; не знаю, был ли там кружок экспатов — наверное, был, но я в него не входил, я все больше тусовался в кругах художественных. Я не преподавал — мне было всего двадцать два года. Зато я был натурщиком в художественной школе. Когда у меня кончились деньги, я устроился туда, позировать перед студентами. Так что я главным образом тусовался с молодыми художниками из этой школы. У них с советских времен сохранилась эта система: 45 минут стоишь неподвижно, потом — десятиминутный перерыв, потом — еще 45 минут. Они как-то не перешли на более цивилизованные условия труда, так что, знаете, приходилось довольно трудно. Но все это было очень интересно; мне страшно нравилось.
По сути говоря, эта книга — можно сказать, она о том же, что и “Remainder”, и “С”. Речь во всех них идет о неудачных попытках выйти за пределы — будь то в политическом смысле, в метафизическом, да в каком угодно. В романе “Remainder” внимание сосредоточено на материи, которая то поднимается вверх, то опускается вниз; это — две главные оси книги; хотя почему две — точнее говоря, это одна ось. Вверх-вниз, что-то поднимается, что-то опускается. Это могут быть акции на бирже или части самолета. То же самое происходит и во второй книге, “Люди в космосе”. Там присутствует эта идея: апофеоз целой культуры, которая вот так вот берет и рушится. Потом этот советский космонавт, застрявший в космосе в то время как Советский Союз разваливается. А в конце — свалка металлолома, забитая всяческими деталями машин — они валяются там, никому не нужные. Наверное, “Remainder” в этом отношении гораздо более тонкая вещь, но к этой основной идее я обращаюсь и в пражском романе, “Люди в космосе”. Забавно, но идея-то довольно нехитрая: просто череда нарастаний, эскалаций, идущая, пока все не умрут — только и всего. Ничего особенно сложного в этом нет.
В вашем случае “синдром второй книги”, если о нем можно говорить, развивался наоборот — на самом деле вторая по времени написания книга – “Когда я был настоящим”, она лишь вышла первой, а за ней последовала та, что писалась раньше – “Люди в космосе”. Как бы то ни было, мне хотелось бы вернуться к истории первой публикации. Как известно, издательство “Олимпия” в свое время предлагало авторам “серьезных” вещей сочинить для них что-нибудь фривольное. Вам тоже пришлось этим заниматься, когда вы сотрудничали с “Метрономом”?
Да, “Метроном-пресс” действительно взяли в качестве образца “Олимпию”. А “Олимпией” некогда заведовал этот любопытный персонаж, широкая натура, харизматическая личность с международной репутацией — грек по имени Морис Жиродиас. Он делал деньги на порнографии, а на литературе только терял. Он ведь печатал вещи, которые совсем не продавались, но это была его страсть. И вот однажды ему в голову пришла идея свести эти две читательские аудитории вместе. Он стал издавать журналы — не журналы, такие книжечки, где с одной стороны была настоящая литература, а с другой — порно. Нынче уже мало кто помнит, что именно так впервые увидели свет книги Беккета, Набокова. На сегодняшний взгляд, конечно, это порнография очень мягкого свойства — какая-нибудь женщина стоит на лесенке, а на нее смотрят снизу, ничего особенного. Одним словом, Клементина Делисс и Тома Буту решили все это возродить. У них к тому времени уже был грант от Центра Помпиду, от Американского фонда в Париже, от других организаций, поддерживающих искусство. Стало быть, субсидии уже были. И все же они заказали нескольким видным художникам сделать для них ряд порнографических работ, каких-нибудь образов на эротические темы. Они тоже стали издавать книжечки в стиле “Олимпии” — с одного конца романы, вроде моего, а с другого… Их, эти книжки, можно и сейчас найти — в архивах, да и в продаже они есть. Только продаются целыми наборами — по одному их не купишь, только целую коробку, где все романы, все журналы. Стоит все это дело где-то сотню евро, так что они не очень-то популярны, нечасто попадаются. А мое участие в порнографической стороне проекта было такое. Они ведь тоже пошли по пути Жиродиаса. А он, кстати, был знаком с большим количеством голодающих художников, писателей. У Жиродиаса имелся список покупателей, заказывающих порнографические романы по почте. Значит, он брал и сочинял аннотацию к роману — ненаписанному, несуществующему, просто выдумывал что-нибудь. Например, напишет: “Исповедь горничной”; в этом пикантном романе парижская горничная рассказывает всю правду об американском посольстве, ну и так далее, и тому подобное. Потом он ждал, и если на книгу подписывалось всего человек 20, он сообщал им: извините, все экземпляры кончились, то есть вообще ничего не печатал. Если же желающих было 500 или, скажем, 2000 человек, он заказывал написать такой роман кому-нибудь из своих знакомых — бедных писателей. Он встречался с ними в барах и говорил: значит так, вот тебе аннотация, вот 200 долларов, давай, напиши книгу. Никаких художественных изысков, только голый секс и все. Конечно, все соглашались. Алекс Трокки много таких написал. И Беккет. Очень смешно, правда? В общем, Клементина и Тома решили сделать нечто похожее, смешать с порнографией три-четыре книги, которые собирались издать. Был среди них роман одного американского писателя, уже умершего к тому времени, Чарльза Генри Форда. А я сочинил историю о том, как американские школьники-подростки реконструируют фотографии, сделанные в тюрьме Абу-Граиб. Не скажу, чтобы это была тяжкая повинность — мне скорее понравилось. Если подумать, пожалуй, тут на меня сильно повлиял де Сад. Опять-таки, все упирается в эстетику повторения — абсолютно все. Помните, в “120 днях Содома” эти проститутки из высшего общества рассказывают о своих приключениях, а их клиенты-вольнодумцы потом реконструируют, разыгрывают все это с подростками, которых они, скажем так, похитили. И я подумал — это ведь в чистом виде та же логика, по которой разворачивались события в Абу-Граиб. Люди смотрят порнографию, потом разыгрывают увиденные сцены. Так что получился некий отклик на ту смесь медиа и насилия, которая нам всем знакома. И естественно, что ребята в американской школе занимаются чем-то в этом роде на своей вечеринке. В общем, да, это был любопытный опыт, писать на эту тему было интересно.
Поговорим о вашем новом романе, “С”, который скоро выходит. Первые отклики на него уже поступили. Как, по-вашему, правильно ли поняли книгу те, кто успел ее прочесть?
Тут нельзя сказать, правильно люди поняли книгу или неправильно. Я как писатель могу лишь обозначить ряд возможностей, вопросов, открытых для интерпретации. Единой интерпретации нет и быть не может; по сути, если бы таковая существовала, моя книга, вероятно, оказалась бы весьма одномерной. Одним словом, кто я такой, чтобы об этом судить? Могу просто поделиться какими-нибудь историями о том, как книга создавалась.
Предтечей стал мой арт-проект “Черный ящик” — это такое устройство, которое передает и принимает радиосигналы. Когда я этим занимался, мне в голову пришла идея написать “С”. Связь между средствами коммуникации и смертью — а также инцестом, семьей, семейными структурами. В литературе они всегда связаны с инцестом, начиная с Софокла и далее. В моем романе очень заметно присутствие Набокова. Я тогда как раз читал “Аду” — по-моему, это настоящий шедевр, лучшая его вещь с большим-пребольшим отрывом. В общем, да, в моем романе речь о кодах, о коммуникациях, о телефонной связи. Телефон — это как раз то, что из книги полностью исключено, по той же самой причине, почему секс исключен из “Когда я был настоящим”. А вообще там главное — телефонная связь. Что до изобретений, которые там упоминаются — да, это не просто фантазии. Отец главного героя постоянно что-то изобретает, но он всегда на шаг отстает. Например, изобретает беспроволочное радио и жалуется на “этого итальянца с Солсберийской равнины” — имеется в виду Маркони. Понимаете, на каждого Маркони найдется подобный пример. Это как с “Кока-колой” — на каждый патент найдется еще 20 имен, которые получили бы его двумя неделями позже. А так — да, все его изобретения имеют под собой основу. Скажем, “Катод Каррефакса” — это на самом деле телевизор, который он пытается изобрести. Даже эти безумные рассуждения — помните, об этих “радио-призраках”, о сигналах, которые никуда не исчезают — все это на самом деле так, никакой выдумки тут нет. Радиосигналы никуда не деваются; сейчас, когда мы с вами беседуем, какие-нибудь инопланетяне, возможно, слушают программу “Today”. Если они и угасают, то очень и очень медленно. Они продолжают распространяться в эфире, там скапливается столько мусора. Разумеется, эти сигналы искажены до полной неузнаваемости, но все же они есть.
Технический прогресс дает возможность реализовать определенные мечты. Но меня заинтересовало вот что: техника становится своего рода хранилищем людских фантазий и верований. Понимаете, становление радио приходится на период Первой мировой войны, когда каждая семья в Европе кого-нибудь потеряла. В результате в последующие годы стали жутко популярны спиритические сеансы — невероятно популярны. До того, в 19-м веке, все увлекались столоверчением, обычным стуком по столу. А в 20-м медиум настраивался на определенную волну, ловил фрагменты электрических сигналов — тех, что поступали, скажем так, от умерших. Было широко распространено такое мнение: поскольку мы состоим из электричества и материи, то, когда мы умираем, электричество не исчезает, а просто переключается на другую частоту. Об этом много можно найти у таких людей, как Оливер Лодж — он же был не какой-то там ненормальный, он возглавлял Королевский исследовательский институт. Короче говоря, эти теории сделались вполне общепринятыми и очень распространенными — среди масс, среди интеллектуалов. Писатели вроде Артура Конан Дойля, Редьярда Киплинга — многие из них стали ярыми приверженцами этих идей. Таким образом, техника превращается в своего рода склеп, часовню, где оплакивают погибших, а также непогибших — их ведь тоже в некотором смысле оплакивают, не похоронив по-настоящему.
Что можно сказать в этом отношении про Вторую мировую войну? Был ли там, на ваш взгляд, свой эквивалент радио и если был, то какую роль он играл?
Трудно сказать. Величайшее произведение о Второй мировой — роман Пинчона “Радуга гравитации”. Он был написан только в 1973 году, но речь там идет о том времени и о технике, возведенной в ранг фетиша. У Пинчона тоже важную роль играет оборотная сторона техники. Главным фетишистским объектом, тотемом, если угодно, у него является фаллос — в частности, ракета “Фау-2”. Но, кроме того, он размышляет о времени, о кинематографии. Это — первый в мире снаряд, который в движении опережает собственный звук. Тем самым, смещаются понятия причины и следствия; к тому же, тут появляется возможность прокрутить фильм (а значит — и время) в обратном направлении.
Некоторые считают, что не имеет смысла вообще говорить о Первой и Второй мировых войнах. Все это — единый период, отмеченный техническим прогрессом. Пожалуй, интересно еще вот что. Если взять такую фигуру того времени, как, например, Маринетти, — вот он действительно чрезвычайно интересен. Ведь те разновидности художественного отклика на войну, которые мы, скажем, проходили в школе — все они идут от одной и той же либеральной, гуманистической традиции. Обычно слышишь: о, война — это же так ужасно, ах, почему мы все не можем любить друг друга, и все такое прочее. Тогда как на самом деле интересные вещи можно найти у людей вроде Маринетти, которого в школе, конечно, не преподают — он ведь фашист до мозга костей. Но при этом он — гений. То, как он демонстративно, даже напыщенно воспевает маршруты самолетов, боевые снаряды, всю эту технику, а также — скорость как новую религию. Все это куда более точно описывает пройденный опыт, те эстетические последствия, которые он принес, нежели эти отстраненные гуманистические разглагольствования.
В той части романа “С”, которая посвящена войне, есть целые куски, взятые из Маринетти. Особенно там, где герой летит над полем сражения, и у него возникает некое чувство геометрии пространства. У Маринетти постоянно встречается этот треугольник: спорт, поэзия, война. Так вот, герою открывается поле сражения; он видит взрывы, артиллерию — все это столь же грациозно, как гимнастические упражнения, надо всем этим — его аэроплан. Гимнастика вызывает ассоциации с поэзией, а поэзия сходна с войной. Тем самым, эти три вещи связываются, образуя некий бесконечный треугольник.
Еще тут на ум приходит Эрнст Юнгер — чрезвычайно интересная фигура. Он участвовал и в Первой, и во Второй мировой войне — сражался на стороне немцев. Умер относительно недавно, дожив лет до 102-х, что-то в этом роде. Он написал “В стальных грозах”, “Борьба как внутреннее переживание”… В каком-то смысле его идеи напоминают идеи Хайдеггера, те, что можно интерпретировать двояко — он вообще весьма близок к Хайдеггеру в том, что касается феноменологического опыта, который можно получить в бою. Его подход к войне в целом такой: война — по сути, явление из Гомера, ее следует воспевать, потому что это то, что было у Гомера. Фактически, это как раз то, что делают в Голливуде — помните, как в этом идиотском фильме с Брэдом Питтом, “Троя”.
Должен сказать, я на самом деле не понимаю всего этого — этого свойственного либералам отрицания идей Маринетти и ему подобных. Он же не какой-то подозрительный итальянский художник, который бомбит Ирак, пытаясь вдолбить его в каменный век, или пытает людей в Абу-Граибе. Кто знает, что там на самом деле происходило. Многие считают Маринетти фигурой самой противоречивой, какую только можно себе представить. Ведь он, по сути, делает с фашизмом то же, что Энди Уорхол с капитализмом. Уорхол капитализм не отвергает — вместо этого он превращает себя самого в некое гротескное зеркальное отражение этого явления. И доходит до предела, после которого вся эта штука как бы получает разъяснение. И Маринетти, по-моему, делает то же самое. Когда читаешь его, поражаешься, сколько в его текстах юмора, да и иронии — просто невероятное количество.
Возвращаясь к герою романа “С”, он у вас выглядит одновременно символом 20-го века и его жертвой; в этом — его сходство с персонажем “Когда я был настоящим”. Так оно и было задумано?
Наверное, жертва — не совсем то слово. Там присутствует картина травмы, ее перспективное изображение. Книга — вернее, обе эти книги — вращаются вокруг травмы и ее последствий — гигантских по масштабам. В случае “С” это, можно, сказать, травма всеобщая. Таким образом, герой, Серж — можно сказать, субъект, переживший травму, у которого этот процесс так и не получил завершения. Он — голос 20-го столетия; ведь это — столетие, прошедшее под знаком травмы, эпоха, которая так и не разрешила свой кризис. Совершенно верно — он продолжается по сей день. Важен тот факт, что Серж на это не способен — он не может по-настоящему оплакать свою сестру; вместо того, чтобы плакать, когда она умирает, он переносит свое чувство утраты на весь мир. Мир как целое, сама история становятся теми площадками, на которых разыгрывается этот процесс. Все это, как мне кажется, весьма символично. История Сержа — своего рода знак, которым помечена травма более крупного масштаба, или целый набор травматических эффектов. Не случайно то, что в конце он отправляется в Египет, на раскопки гробниц — это тоже имеет инцестуальный подтекст, эти семьи, умершие братья и сестры, умершие дети. В каком-то смысле все это превращается в нечто совершенно трансисторическое. По Фрейду, травма — не историческая случайность, это состояние субъективное. От Traumdeutung Фрейд заставляет нас перейти к Traumadeutung — то есть, от интерпретации сновидений — к интерпретации травмы. И, в конце концов, в таких трудах, как эссе “По ту сторону принципа наслаждения”, он, по сути говоря, хочет сказать следующее: человек на самом примитивном своем уровне есть реагирующая машина, основанная на повторении, которая откликается на заложенный в ее истоках травматизм существования.
Видите ли, я только-только закончил работу над “С”. Корректуры, то да се, переписка с издательством “Jonathan Cape”, снова корректуры… Одним словом, я едва начал новую вещь — всего 3000 слов написал или около того. Так что ждать этого еще очень долго.
Источник: